«Период полураспада»
2 ноября, 2018 8:05 дп
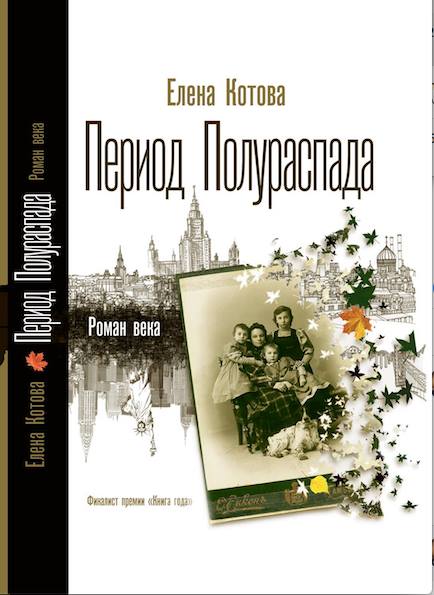
Elena Kotova
Елена Котова:
Отрывок из романа «Период полураспада»(2016)
Степан Иванович Котов поднялся на заре, вышел из-за занавески, отделявшей от горницы их с женой угол избы за печью, напился воды, глянул на полати, где рядышком посапывали два его сына: «Взять что ли с собой? Ладно, пусть малой поспит, накосит еще свое». Он тронул за вихры старшего, Ваську: «Вставай, сено косить пора». Сын промычал что-то, зарылся было поглубже в подушку, но тут же вздернул голову:
-Бать, на покос пойдем? С мужиками?
-Вставай, да шибко не шуми, все еще спят. Умойся, давай, и выходи. Хлеба вон возьми со стола… Я за косами пошел.
Васька, лягнув спящего рядом младшего Витьку, слез с полатей, плеснул в лицо воды из рукомойника, висевшего у притолоки, сунул за пазуху ломоть хлеба. Выбежал во двор: «Ща, бать, я быстро…»
Степан Иванович с двумя косами на плече – одна покороче, для Васьки приладил, – и сын вышли за калитку, пересекли поляну, за которой бежала узкая речка, и берегом пошли в сторону полей. В затылки им уже светило солнце, но еще стояла, как и положено, роса. Васька вприпрыжку семенил рядом с отцом, поглядывая на реку, от которой поднималась влажная дымка.
Степан Иванович с тех пор, как себя помнил, жил в селе Малышево Ковровского уезда Владимирской губернии. В германскую воевал, в гражданскую служил в коннице в Красной армии, вернувшись, взял в сельсовете земли, построил дом почти на краю села, отделившись от родителей. Через год привел в него из соседней деревни жену Евдокию Ивановну, стал вместе с ней поднимать хозяйство. В двадцать втором родился первенец, Василий, через полтора года – дочь Нина, а еще через два, младший, которому дали «городское имя» Виктор.
После смерти родителей Евдокии Котовы взяли в дом ее сестру, Лену. Той уже тридцать, так и проживет в девках. Хозяйство втроем они подняли быстро, в доме была корова, две лошади, пара свиней и птица без счета. Изба скромная –сени, отгороженные от хлева, где стояла корова, да горница, правда, большая, в три окна. Вдоль двух окон большой рубленый стол, слева – две широкие лавки, где спали Лена и дочь Нина, поперек комнаты — печь до потолка, за ней угол с окном, выгороженный пестрой ситцевой занавеской, где спали Степан Иванович с женой. В углу под образами ткацкий станок – Ленино хозяйство, та и вязала на всю семью, и ткала, —все больше скатерти и половики, на продажу.
Коллективизацию Степан Котов одобрил: хоть у него самого батраков и быть не могло, но смотреть, как они ишачили на двух богатеев их села, спиваясь один за другим, ему было не по сердцу. Хоть и пустые люди, раз свое хозяйство не подняли, а все люди. Пусть на все село работают, все больше пользы.
В колхоз ему пришлось отдать одну лошадь и свинью, а дальше стал он крепко торговаться и вторую лошадь с коровой отстоял. Пришлось еще с колхозом птицей поделиться, но что птица, за лето новая народится, это ж не корова.
Степан Иванович вел агитацию за колхоз не из-под палки, а от души. Комиссар, — так он по привычке называл партийного работника, присланного из города, — ставил его в пример: «середняк, а сознательный». С охотой ходил на занятия политкружка, где изучали статью товарища Сталина «Головокружение от успехов». Статья была правильная. Степан Иванович разъяснял односельчанам разницу между сельскохозяйственной коммуной и артелью, которая являлась, как говорилось в статье, «основным звеном сельского хозяйства». Еще в ней говорилось, что поворот деревни к социализму уже совершился, и это было тоже правильно: их колхоз поднимался, кулаки перевелись, а середняков, вроде Степана Ивановича, никто не обижал. По причине службы в Красной армии продразверстку он знал больше по рассказам, но ему было ясно, что если все вчистую отбирать, то кроме голода и пьянства ждать нечего, а голод в их селе, да и во всем уезде, который теперь назывался «район», как говорили старики, был в те годы нешуточный. А вот, что некоторые старики – хоть бы Егор Тихонович, пятидесятилетний бобыль, особенно уважаемый в деревне, — рядили вечерами, как городские непременно развалят колхоз, переведут собранную по дворам скотину, Степану Ивановичу было не по душе, и он старался таких разговоров избегать.
— Ну что, покосили? — спросила мать мужа и Ваську, вернувшихся в дом.
— А то! — ответил Васька. – Вам, бабам, два дня собирать, не собрать, столько будет вам сена. Мам, есть будем?
— Так, мойтесь и садитесь, Витя, вон, уже сидит, ложку держит. Тетю Лену с Ниной кликни, они в огороде, да и садитесь. — Евдокия Ивановна ловко вынула ухватом из печи большую сковороду пшенной каши, ухватом поменьше достала чугунок щей, подумав, поставила сковороду обратно, — Пусть еще попреет, пока щи едите.
-Вить, проспал покос-то? – Васька уселся за стол рядом с братом, на всякий случай дав ему подзатыльник.
— Зато я уроки сделал, а ты нет.
— Какие у тебя уроки, первоклашка. Одна азбука.
— Теть Лена тоже должна ходить в школу, — объявил Витя. — Неграмотность ликвидировать. Она ни читать, ни писать не умеет!
— Не тебе тетку судить, — одернул его отец. — Скажи спасибо, что тебя с братом и сестрой советская власть учит. У тетки детство было не то, что у вас, в ее деревне даже школы не было. Да и тут, разве это школа была? Поп грамоте учил, вот и вся школа. А ты подрастешь, будешь и арифметику знать, и географию. Все будет, сынок, учись только.
Дети Котовых учились хорошо, просто на зависть. Васька с Витькой уроки делали наперегонки, старший брат любил проверять, как пишет слова, составляя их в предложения, младший, чтоб точно по учебнику. Нина с пацанами не возилась, ходила делать уроки к подругам. Дома сидела больше при тете Лене, когда та ткала, смотрела, как мерно тетка нажимает на педаль, ловко накидывая куда положено нити, как перехватывает ряд за рядом жгутики разноцветных тряпок станок, из которого неспешно выползает веселый, полосатый половик.
Летом Васька и Витька ловили рыбу, речка в двух шагах от дома была, только поляну перейти. Плотвичку за рыбу не считали, вот караси – совсем другое дело. Зажаренные на сковородке, да с луком, да в сметане, да еще чугунок картошки… Зимой катались на санках, но не в пример больше любили коньки, которые у них были одни на двоих. Река промерзала ровно, лед был почти гладкий, Васька улетал по льду за излом реки, а Витька бежал следом.
-Вась, хорош, теперь я!… Вась, не уезжай, нечестно, коньки давай…
В тридцать шестом году дела в колхозе пошли хуже: партработник на заседаниях объяснял, что их район не выполняет нормы по поставкам в город. Трех тракторов, которые МТС выделяла Малышеву, не хватало, из двенадцати колхозных лошадей пали, как и сказывал Егор Тихонович, уже три. Трактора ломались, долго чинились, колхозники торопились, гнали лошадей, борозды клались небрежно, часть семян не взошла. С трудом вытянули норму по зерну, а по молоку провалились: почему-то колхозные коровы, сколько бы их ни кормили, на какие бы луга не водили, упорно давали молока меньше, чем крестьянские. Расчеты на год делал Степан Иванович, хотя толком не понимал, зачем эти расчеты? Норма она и есть норма, а кто же скажет, сколько молока корова даст? Животновода в селе не было, а хоть бы и был, «он же за коров молоко давать не будет», как однажды под горячую руку на собрании сказал он.
Осенью тридцать шестого на основании какого-то приказа постановили: пополнить колхозное поголовье лошадей и коров за счет зажиточных крестьян. У Котова Степана Ивановича забрали лошадь и вторую корову, которую жена любовно растила из телки уже который год. Еще хуже было то, что как Степан Иванович ни удерживал жену, та бежала за коровой, причитая, на глазах у всей деревни, включая партработников, которых в селе уже стало трое, причем двое были «из органов». Степан Иванович на заседаниях в сельсовете горячился, доказывал, что это и есть те самые «перегибы», с которыми борется товарищ Сталин, дома ходил мрачный, избегал разговоров с женой, которая то и дело принималась его корить, что не уберег корову. Но он и не отчаивался, говоря жене, что случаются несправедливости, но убиваться так из-за коровы не след. Партработники посматривали на Степана Ивановича косо, порой говорили, что у него дома ведется пропаганда против колхоза. Егор Тихонович был давно арестован, его свезли в город, а оттуда отправили, как говорили, на какую-то стройку.
Глухой февральской ночью тридцать седьмого Витька с Васькой проснулись от стука в дверь. В избу вошли люди в фуражках с красными околышами и велели отцу собираться. Зачитали бумагу, которую одиннадцатилетний Витька не понял спросонок и от страха. Он только смотрел на брата, бледного и насупленного, на мать, Нинку и тетю Лену, которые голосили и рвались к отцу, но их не пускали люди с околышами. Нинка суетилась беспомощно, хватаясь то за отцовские сапоги, то за валенки, тетя Лена дрожащими руками вытаскивала из потрескавшегося комода отцовское белье, шерстяные носки, а Витька с Васькой сидели на лавках, окаменев.
Вслед за отцом, семья высыпала во двор. Отец, поцеловав всех по очереди, повторял, что в городе непременно разберутся, что это ошибка. Отведя мать чуть в сторонку, обнял ее и стоял, прижавшись, пока один в околыше, не сказал: «Хватит, поехали!»
Отца вывели за калитку, где стояли большие сани. Мать голосила, тетя Лена и Нинка всхлипывали уже почти беззвучно. Васька накинул на плечи брата полушубок, нахлобучил шапку: «еще ты простудишься, мороз-то какой». Отца усадили в сани – между двумя околышами, сани тронулись и покатили по колее налево, в сторону дороги на Ковров, мать, тетя Лена и Нинка стояли, вцепившись друг в друга. Витька, не помня себя, сорвался с места и бросился за санями, не слыша окриков брата.
Лошади тянули сани по снежной колее, Витька шел рядом, держась рукой за край саней, смотрел на отца и повторял: «Папка, не уезжай, не уезжай, папка, не бросай нас…» Околыши незлобно покрикивали: «Отойди, пацан…»
-Папка, куда ты едешь, не уезжай….
Сани доехали до большой дороги, ведущей в Ковров, лошади побежали резвее. Витька бежал рядом, все держась за край саней, потом отпустил их и бежал позади, повторяя: «Папка, не уезжай! Не уезжай….». Сани ехали все быстрее, он все больше отставал, но видел, что отец не сводит с него глаз. Сани удалялись, он уже не различал лица отца, потом и повозка слилась в темное пятно на фоне серого ночного снега, но продолжал бежать. Теперь, когда отец его не видел, он уже не сдерживал слез, размазывал их по щекам пятерней и повторял: «Папка, куда ты едешь, как же мы без тебя…». Остановился, когда сани исчезли из виду, то ли завернув за очередной поворот, то ли растворившись во мгле. Постоял с минуту, переводя дух, разревелся уже в голос, сдернул с головы шапку и уткнувшись в нее лицом, повернул назад к деревне.
Витька не думал, что убежал так далеко, шел и шел, а поворота на Малышево все не было. Решил скосить по целине и побрел, проваливаясь в снег, то и дело останавливаясь, чтобы перевести дух, пока не понял, что сбился с пути. Да и пути никакого не было, кругом нетронутый снег. Он брел по целине, уже не думая, в какой стороне осталась дорога и далеко ли деревня. Он он просто брел и брел наугад, всхлипывая и утирая сопли, пока, совершенно обессилевший, не вышел, наконец, на колею у края деревни.
Витька остановился, прислушался к ночной темени, но ничего не расслышал, кроме морозной тишины. Ни в одном из окон не горел свет, только на небе висели ледяного цвета звезды. Витька побрел дальше, уже по колее, по которой недавно проехали сани, глядя не на звезды, а себе под ноги и повторяя про себя: «Папка, зачем же ты уехал…»
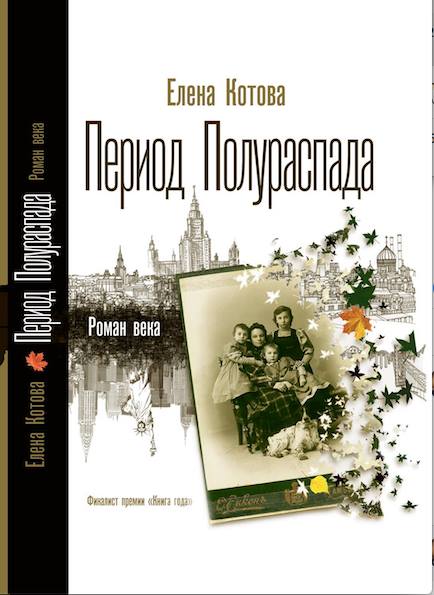
Elena Kotova
Елена Котова:
Отрывок из романа «Период полураспада»(2016)
Степан Иванович Котов поднялся на заре, вышел из-за занавески, отделявшей от горницы их с женой угол избы за печью, напился воды, глянул на полати, где рядышком посапывали два его сына: «Взять что ли с собой? Ладно, пусть малой поспит, накосит еще свое». Он тронул за вихры старшего, Ваську: «Вставай, сено косить пора». Сын промычал что-то, зарылся было поглубже в подушку, но тут же вздернул голову:
-Бать, на покос пойдем? С мужиками?
-Вставай, да шибко не шуми, все еще спят. Умойся, давай, и выходи. Хлеба вон возьми со стола… Я за косами пошел.
Васька, лягнув спящего рядом младшего Витьку, слез с полатей, плеснул в лицо воды из рукомойника, висевшего у притолоки, сунул за пазуху ломоть хлеба. Выбежал во двор: «Ща, бать, я быстро…»
Степан Иванович с двумя косами на плече – одна покороче, для Васьки приладил, – и сын вышли за калитку, пересекли поляну, за которой бежала узкая речка, и берегом пошли в сторону полей. В затылки им уже светило солнце, но еще стояла, как и положено, роса. Васька вприпрыжку семенил рядом с отцом, поглядывая на реку, от которой поднималась влажная дымка.
Степан Иванович с тех пор, как себя помнил, жил в селе Малышево Ковровского уезда Владимирской губернии. В германскую воевал, в гражданскую служил в коннице в Красной армии, вернувшись, взял в сельсовете земли, построил дом почти на краю села, отделившись от родителей. Через год привел в него из соседней деревни жену Евдокию Ивановну, стал вместе с ней поднимать хозяйство. В двадцать втором родился первенец, Василий, через полтора года – дочь Нина, а еще через два, младший, которому дали «городское имя» Виктор.
После смерти родителей Евдокии Котовы взяли в дом ее сестру, Лену. Той уже тридцать, так и проживет в девках. Хозяйство втроем они подняли быстро, в доме была корова, две лошади, пара свиней и птица без счета. Изба скромная –сени, отгороженные от хлева, где стояла корова, да горница, правда, большая, в три окна. Вдоль двух окон большой рубленый стол, слева – две широкие лавки, где спали Лена и дочь Нина, поперек комнаты — печь до потолка, за ней угол с окном, выгороженный пестрой ситцевой занавеской, где спали Степан Иванович с женой. В углу под образами ткацкий станок – Ленино хозяйство, та и вязала на всю семью, и ткала, —все больше скатерти и половики, на продажу.
Коллективизацию Степан Котов одобрил: хоть у него самого батраков и быть не могло, но смотреть, как они ишачили на двух богатеев их села, спиваясь один за другим, ему было не по сердцу. Хоть и пустые люди, раз свое хозяйство не подняли, а все люди. Пусть на все село работают, все больше пользы.
В колхоз ему пришлось отдать одну лошадь и свинью, а дальше стал он крепко торговаться и вторую лошадь с коровой отстоял. Пришлось еще с колхозом птицей поделиться, но что птица, за лето новая народится, это ж не корова.
Степан Иванович вел агитацию за колхоз не из-под палки, а от души. Комиссар, — так он по привычке называл партийного работника, присланного из города, — ставил его в пример: «середняк, а сознательный». С охотой ходил на занятия политкружка, где изучали статью товарища Сталина «Головокружение от успехов». Статья была правильная. Степан Иванович разъяснял односельчанам разницу между сельскохозяйственной коммуной и артелью, которая являлась, как говорилось в статье, «основным звеном сельского хозяйства». Еще в ней говорилось, что поворот деревни к социализму уже совершился, и это было тоже правильно: их колхоз поднимался, кулаки перевелись, а середняков, вроде Степана Ивановича, никто не обижал. По причине службы в Красной армии продразверстку он знал больше по рассказам, но ему было ясно, что если все вчистую отбирать, то кроме голода и пьянства ждать нечего, а голод в их селе, да и во всем уезде, который теперь назывался «район», как говорили старики, был в те годы нешуточный. А вот, что некоторые старики – хоть бы Егор Тихонович, пятидесятилетний бобыль, особенно уважаемый в деревне, — рядили вечерами, как городские непременно развалят колхоз, переведут собранную по дворам скотину, Степану Ивановичу было не по душе, и он старался таких разговоров избегать.
— Ну что, покосили? — спросила мать мужа и Ваську, вернувшихся в дом.
— А то! — ответил Васька. – Вам, бабам, два дня собирать, не собрать, столько будет вам сена. Мам, есть будем?
— Так, мойтесь и садитесь, Витя, вон, уже сидит, ложку держит. Тетю Лену с Ниной кликни, они в огороде, да и садитесь. — Евдокия Ивановна ловко вынула ухватом из печи большую сковороду пшенной каши, ухватом поменьше достала чугунок щей, подумав, поставила сковороду обратно, — Пусть еще попреет, пока щи едите.
-Вить, проспал покос-то? – Васька уселся за стол рядом с братом, на всякий случай дав ему подзатыльник.
— Зато я уроки сделал, а ты нет.
— Какие у тебя уроки, первоклашка. Одна азбука.
— Теть Лена тоже должна ходить в школу, — объявил Витя. — Неграмотность ликвидировать. Она ни читать, ни писать не умеет!
— Не тебе тетку судить, — одернул его отец. — Скажи спасибо, что тебя с братом и сестрой советская власть учит. У тетки детство было не то, что у вас, в ее деревне даже школы не было. Да и тут, разве это школа была? Поп грамоте учил, вот и вся школа. А ты подрастешь, будешь и арифметику знать, и географию. Все будет, сынок, учись только.
Дети Котовых учились хорошо, просто на зависть. Васька с Витькой уроки делали наперегонки, старший брат любил проверять, как пишет слова, составляя их в предложения, младший, чтоб точно по учебнику. Нина с пацанами не возилась, ходила делать уроки к подругам. Дома сидела больше при тете Лене, когда та ткала, смотрела, как мерно тетка нажимает на педаль, ловко накидывая куда положено нити, как перехватывает ряд за рядом жгутики разноцветных тряпок станок, из которого неспешно выползает веселый, полосатый половик.
Летом Васька и Витька ловили рыбу, речка в двух шагах от дома была, только поляну перейти. Плотвичку за рыбу не считали, вот караси – совсем другое дело. Зажаренные на сковородке, да с луком, да в сметане, да еще чугунок картошки… Зимой катались на санках, но не в пример больше любили коньки, которые у них были одни на двоих. Река промерзала ровно, лед был почти гладкий, Васька улетал по льду за излом реки, а Витька бежал следом.
-Вась, хорош, теперь я!… Вась, не уезжай, нечестно, коньки давай…
В тридцать шестом году дела в колхозе пошли хуже: партработник на заседаниях объяснял, что их район не выполняет нормы по поставкам в город. Трех тракторов, которые МТС выделяла Малышеву, не хватало, из двенадцати колхозных лошадей пали, как и сказывал Егор Тихонович, уже три. Трактора ломались, долго чинились, колхозники торопились, гнали лошадей, борозды клались небрежно, часть семян не взошла. С трудом вытянули норму по зерну, а по молоку провалились: почему-то колхозные коровы, сколько бы их ни кормили, на какие бы луга не водили, упорно давали молока меньше, чем крестьянские. Расчеты на год делал Степан Иванович, хотя толком не понимал, зачем эти расчеты? Норма она и есть норма, а кто же скажет, сколько молока корова даст? Животновода в селе не было, а хоть бы и был, «он же за коров молоко давать не будет», как однажды под горячую руку на собрании сказал он.
Осенью тридцать шестого на основании какого-то приказа постановили: пополнить колхозное поголовье лошадей и коров за счет зажиточных крестьян. У Котова Степана Ивановича забрали лошадь и вторую корову, которую жена любовно растила из телки уже который год. Еще хуже было то, что как Степан Иванович ни удерживал жену, та бежала за коровой, причитая, на глазах у всей деревни, включая партработников, которых в селе уже стало трое, причем двое были «из органов». Степан Иванович на заседаниях в сельсовете горячился, доказывал, что это и есть те самые «перегибы», с которыми борется товарищ Сталин, дома ходил мрачный, избегал разговоров с женой, которая то и дело принималась его корить, что не уберег корову. Но он и не отчаивался, говоря жене, что случаются несправедливости, но убиваться так из-за коровы не след. Партработники посматривали на Степана Ивановича косо, порой говорили, что у него дома ведется пропаганда против колхоза. Егор Тихонович был давно арестован, его свезли в город, а оттуда отправили, как говорили, на какую-то стройку.
Глухой февральской ночью тридцать седьмого Витька с Васькой проснулись от стука в дверь. В избу вошли люди в фуражках с красными околышами и велели отцу собираться. Зачитали бумагу, которую одиннадцатилетний Витька не понял спросонок и от страха. Он только смотрел на брата, бледного и насупленного, на мать, Нинку и тетю Лену, которые голосили и рвались к отцу, но их не пускали люди с околышами. Нинка суетилась беспомощно, хватаясь то за отцовские сапоги, то за валенки, тетя Лена дрожащими руками вытаскивала из потрескавшегося комода отцовское белье, шерстяные носки, а Витька с Васькой сидели на лавках, окаменев.
Вслед за отцом, семья высыпала во двор. Отец, поцеловав всех по очереди, повторял, что в городе непременно разберутся, что это ошибка. Отведя мать чуть в сторонку, обнял ее и стоял, прижавшись, пока один в околыше, не сказал: «Хватит, поехали!»
Отца вывели за калитку, где стояли большие сани. Мать голосила, тетя Лена и Нинка всхлипывали уже почти беззвучно. Васька накинул на плечи брата полушубок, нахлобучил шапку: «еще ты простудишься, мороз-то какой». Отца усадили в сани – между двумя околышами, сани тронулись и покатили по колее налево, в сторону дороги на Ковров, мать, тетя Лена и Нинка стояли, вцепившись друг в друга. Витька, не помня себя, сорвался с места и бросился за санями, не слыша окриков брата.
Лошади тянули сани по снежной колее, Витька шел рядом, держась рукой за край саней, смотрел на отца и повторял: «Папка, не уезжай, не уезжай, папка, не бросай нас…» Околыши незлобно покрикивали: «Отойди, пацан…»
-Папка, куда ты едешь, не уезжай….
Сани доехали до большой дороги, ведущей в Ковров, лошади побежали резвее. Витька бежал рядом, все держась за край саней, потом отпустил их и бежал позади, повторяя: «Папка, не уезжай! Не уезжай….». Сани ехали все быстрее, он все больше отставал, но видел, что отец не сводит с него глаз. Сани удалялись, он уже не различал лица отца, потом и повозка слилась в темное пятно на фоне серого ночного снега, но продолжал бежать. Теперь, когда отец его не видел, он уже не сдерживал слез, размазывал их по щекам пятерней и повторял: «Папка, куда ты едешь, как же мы без тебя…». Остановился, когда сани исчезли из виду, то ли завернув за очередной поворот, то ли растворившись во мгле. Постоял с минуту, переводя дух, разревелся уже в голос, сдернул с головы шапку и уткнувшись в нее лицом, повернул назад к деревне.
Витька не думал, что убежал так далеко, шел и шел, а поворота на Малышево все не было. Решил скосить по целине и побрел, проваливаясь в снег, то и дело останавливаясь, чтобы перевести дух, пока не понял, что сбился с пути. Да и пути никакого не было, кругом нетронутый снег. Он брел по целине, уже не думая, в какой стороне осталась дорога и далеко ли деревня. Он он просто брел и брел наугад, всхлипывая и утирая сопли, пока, совершенно обессилевший, не вышел, наконец, на колею у края деревни.
Витька остановился, прислушался к ночной темени, но ничего не расслышал, кроме морозной тишины. Ни в одном из окон не горел свет, только на небе висели ледяного цвета звезды. Витька побрел дальше, уже по колее, по которой недавно проехали сани, глядя не на звезды, а себе под ноги и повторяя про себя: «Папка, зачем же ты уехал…»

